Человек разумный: значение и характеристика, разум и инстинкт
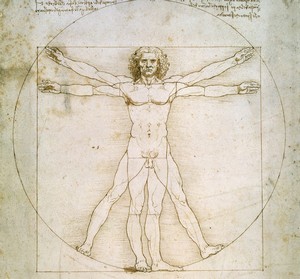
Известный французский писатель Франсуа Шатобриан писал в 1802 году: «Нам кажется достойным глубокого сожаления тот факт, что система Линнея относит человека к семейству млекопитающих вместе с обезьянами, летучими мышами и ленивцами. Не лучше ли было бы оставить его во главе творения — на том месте, которое отвели ему Моисей, Аристотель, Бюффон и природа?» Единственным утешением для интеллектуальных консерваторов типа Шатобриана, целая армия которых полувеком позже обрушилась на дарвиновскую идею происхождения человека от обезьяны, могло служить лишь то, что Линней в своем каталоге видов снабдил человека почетным эпитетом «разумный». Тем самым великий классификатор окончательно и бесповоротно закрепил в сознании своих современников издавна господствовавшую мысль о принципиальном различии между поведением животных, руководимых в своей жизни инстинктами, и психикой человека, основывающего свои поступки на велениях интеллекта и разума.
Справедливость этого заключения казалась бесспорной до того момента, пока понятия «инстинкт» и «разум» принимались философами и учеными само собой очевидными, изначально данными и не требующими более глубокого осмысления. Но, как это обычно бывает в истории науки, отыскались беспокойные умы, поставившие под сомнение вещи, веками казавшиеся несомненными. Как определить, что есть инстинкт и что есть разум? Действительно ли разделены они столь непроходимой пропастью? Нет ли в поведении животных хотя бы малой толики разума, и не являются ли некоторые поступки человека инстинктивными в той или иной степени? Но прежде чем говорить о месте инстинкта в поведении современного человека, необходимо сказать несколько слов о том, какова эволюция наших представлений об инстинкте и об его связях и соотношениях с интеллектуальной, разумной деятельностью.
Что думали об этом полвека назад?
В. Р. Дольник определяет инстинкт как «врожденную программу поведения», сравнивая его с той программой, которую кибернетик закладывает в компьютер в момент рождения последней. Подчеркивая врожденный характер инстинкта, мы тем самым утверждаем, что инстинкт дан животному, так сказать, в готовом виде и в силу этого может «работать» без всякого предварительного обучения. Когда самка южноазиатской птицы-портного впервые в жизни приступает к постройке гнезда, она не может при этом пользоваться ни примером со стороны, ни собственным предварительным опытом. А между тем задача ее далеко не проста. Висячее гнездо помещается между двумя крупными листьями. Их края должны быть сшиты нитями, которые самка сплетает из паутины или из шелковистых волокон, предварительно надерганных птицей из коконов бабочек. Самка делает два аккуратных шва, пользуясь своим тонким клювом наподобие шила и иголки, а затем уже строит мягкое гнездо из сухой травы внутри этой своеобразной колыбели.
В отличие от инстинкта, не требующего обучения, разумная деятельность вся зиждется на предыдущем опыте, приобретенном самостоятельно, по способу проб и ошибок или же заимствованном от себе подобных (например, путем подражания). Высший тип разумного поведения — то, что мы называем интеллектом у человека, это, на мой взгляд, способность к неограниченному обучению, результаты которого могут быть использованы для достижения сколь угодно отдаленных, заранее спланированных целей.
Умение пользоваться ниткой и иголкой не записано в генетическом коде человека, и ребенок должен научиться этому. Иногда такое обучение происходит как бы само собой, а в действительности — путем подражания действиям взрослых. Чаще же мать целенаправленно обучает девочку шитью, рассказывая ей, как следует вдевать нитку в иголку и как пользоваться этим инструментом в дальнейшем. Научившись шить, человек может употребить этот навык в самых различных целях. Чтобы передвигаться по воде, люди шьют паруса, а для защиты от дождя и холода — зонты, шляпы и шубы. С изменением моды меняются фасоны одежды, а швы сшитого из шкур чума со временем уступают место сварным швам металлических конструкций.
Итак, при первом, самом грубом сопоставлении инстинкта и разума мы обнаруживаем по крайней мере три главных различия между ними. Во-первых, инстинктивное поведение не нуждается в обучении, а разумное целиком зиждется на нем. Во-вторых, инстинкт в своей автоматичности не соотносится с будущими целями, тогда как разум действует как раз в расчете на них. В-третьих, инстинкт единообразен, стереотипен у всех особей данного вида, в то время как результаты разумной деятельности сугубо индивидуальны, а каждый новый успех может быть закреплен в культуре и приумножен в дальнейшем.
Отсюда и коренные различия в скорости эволюции инстинктов, с одной стороны, и исторических преобразований интеллекта — с другой. Инстинкты видоизменяются крайне медленно и с относительно постоянной скоростью. Интеллектуальные возможности человека растут быстро, все ускоряясь в своем развитии. Почему? Да потому, что в силу большего или меньшего единообразия того или иного инстинкта у всех особей данного вида естественному отбору удается сохранить в данном поколении и передать следующему такие варианты, которые лишь чуть-чуть лучше других, не выдержавших соревнования на выживаемость. При этом — что особенно важно! — успех способствует только потомству тех особей, поведение которых оказалось «лучшим» за счет случайных изменений (мутаций) в их генах, а не за счет накопления индивидуального опыта. Сегодня ученым хорошо известно, что «улучшения» в инстинкте, обязанные жизненному опыту животного, не в состоянии изменить генетических свойств особи и, естественно, не передаются ее потомству.
Что касается интеллектуальных приобретений, то все они могут стать достоянием последующих поколений, поступая в их руки не генетическим руслом, а посредством культурных традиций. Таким образом, достижения одной-единственной гениальной (или просто высокоодаренной) личности способны в очень короткий срок сильнейшим образом ускорить прогресс человеческой культуры. Вся история науки, техники и искусства может служить тому прекрасной иллюстраций. Это история выдающихся имен, каждое из которых как бы фиксировало новый яркий этап в поступательном развитии человеческого познания и мастерства.
Примерно так представлялись различия между инстинктом и разумом лет сто назад. Изложенные здесь взгляды в целом верны, однако с тех пор мы узнали и много нового, заставившего ученых несколько по-иному взглянуть на отношения между врожденными программами поведения и теми, которые индивидуум приобретает за время своей жизни в результате обучения.
Как же обстоит дело в действительности?
Основоположникам этологии казалось вполне очевидным, что инстинкт отличается от разума своим врожденным характером, автоматизмом и стереотипностью. Но действительно ли эти три признака позволяют легко отличить инстинктивную деятельность от разумной? Оказывается, нет.
Во-первых, этологи и зоопсихологи установили, что и сама способность к обучению является в той или иной степени врожденной. В опытах ученого Л. В. Крушинского по изучению так называемой «элементарной рассудочной деятельности» выяснилось, что рыбы решают простые задачи на сообразительность хуже, чем черепахи, голуби — лучше, чем куры, а волки и лисицы в этом смысле явно превосходят домашних собак. Можно вывести две генетически чистые популяции мышей, так что особи из одной популяции будут успешнее обучаться при массированном предъявлении им тех или иных тестов, тогда как особи другой популяции достигают аналогичного успеха в том случае, если предъявляемые им тесты разделены длительными временными интервалами. Такие различия в обучении оказались наследственными, записанными в генетической программе каждой из этих популяций.
Во-вторых, влияние обучения на наследственную программу поведения далеко не всегда легко выявить. Дело в том, что помимо обучения в том смысле, как мы все его понимаем, есть и другой тип обучения — скрытое, или, как говорят психологи, латентное обучение. Представьте себе, что вы получили квартиру в новом доме, к которому можно пройти от остановки автобуса несколькими вполне равноценными маршрутами. После того, как вы три-четыре раза вернулись с работы одним из этих маршрутов, вы и в дальнейшем будете бессознательно, «инстинктивно» выбирать именно этот путь. Вот вам один из типичных автоматизмов нашего повседневного поведения, который, будучи вполне бессознательным, непроизвольным, является, тем не менее, результатом скрытого обучения, а отнюдь не проявлением некой генетической программы.
В-третьих, стереотипность тех или иных действий, однотипно выполняемых всеми особями данной популяции, также не всегда обусловлена врожденным характером этих действий. Здесь достаточно лишь того, чтобы все и каждый следовали при обучении (явном или скрытом) одному и тому же образцу. Самцы американской белоголовой овсянки, живущие в Южной Гренландии, поют более или менее одинаково, но не так, как самцы того же вида из Калифорнии, где для них характерен другой тип песни.
Орнитологи установили, что такие местные песенные диалекты не наследственны, но формируются в результате постоянного обучения птиц-соседей друг от друга. Здесь перед нами явная аналогия с языковыми диалектами у человека. Эти устойчивые различия в произношении обусловлены тем, что ребенок в период обучения языку непроизвольно усваивает языковые стандарты, бытующие в его окружении. Такие неявные влияния сложившейся культуры на формирование поведения человека служат предметом одного из разделов семиотики — так называемой этнографической семиотики. Когда этносемиотик обнаруживает, что отдыхающий эскимос сидит, вытянув ноги, а туркмен — скрестив ноги, ему не придет в голову приписывать эти различия несходству генетических программ у названных народов. Стереотип может быть в не меньшей степени детищем традиции, нежели инстинкта.
Имея все это в виду, видные американские психологи Дж. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам предлагают рассматривать «инстинкт» как некий генеральный, «стратегический» план, лежащий в основе формирования и преобразований поведения в жизни данной особи. Почти любое звено этого плана может быть в той или иной мере изменено в соответствии с тем «тактическим» решением, которого требует жизненная ситуация в данный момент. Чем выше способность организма к обучению, тем разнообразнее подобная тактика и тем более гибким, адаптивным и выгодным для особи будет ее поведение. Таким образом, заданная от рождения генетическая программа сравнительно редко может быть обнаружена в поведении животного «в чистом виде». Что же касается высших животных с их развитой психикой и высокой способностью к обучению, то здесь практически любой акт «врожденного» поведения обязательно отягчен влиянием предшествующего жизненного опыта. Именно поэтому этологи и психологи все более склонны вообще отказаться от традиционного понятия «инстинкт». Как говорит известный американский зоопсихолог Ф. Бич, «…чем более тщательно исследуется тот или иной вид животных, тем меньше мы слышим относительно инстинктов у этого вида».
Если мы готовы встать на эту точку зрения, то вопрос об инстинктах у человека оказывается особенно противоречивым. Все мы рождаемся, имея «при себе» некий общий план развития нашего поведения. Взяв за основу то определение инстинкта, которое предлагает В. Р. Дольник, можно сказать, что все поведение человека изначально инстинктивно — точно так же, как и поведение прочих обитателей нашей планеты. Однако, коль скоро эта программа, записанная в комбинации наших генов, хотя бы отчасти предопределяет также и развитие интеллекта, было бы, по меньшей мере, неудачно называть врожденный план человеческого поведения «инстинктом». Поэтому лучше, на мой взгляд, вообще отказаться от этого слова и попытаться выяснить, какие автоматизмы в поведении человека действительно заданы от рождения и могут выполняться без всякого обучения, а какие обязаны влиянию той культурной среды, в которой растет и развивается человеческий индивидуум.
Врожденные автоматизмы у человека
Как установить, какие именно действия в многообразном поведении животного предопределены генетической программой и не нуждаются для своего выполнения в каком-либо предварительном обучении? Вероятно, это можно сделать, если содержать детеныша с момента его рождения в таких условиях, которые не позволяют ему обучаться интересующим нас действиям. Всем хорошо известна удивительная способность бобров регулировать уровень воды в обжитых ими речках с помощью хитроумной системы искусно выстроенных плотин. Казалось бы, прекрасный пример разумного поведения у животных! Но так ли это? Еще в начале прошлого века французскому натуралисту Ф. Кювье посчастливилось пронаблюдать за поведением бобренка, выращенного среди людей и никогда не видевшего ни своих собратьев, ни выстроенных ими плотин. И, тем не менее этот найденыш охотно утрамбовывал рыхлую землю своим широким плоским хвостом, а затем втыкал сюда ивовые прутья, которые он перед этим очистил от коры своими острыми, как долото, резцами.
Такого рода опыты по выращиванию детенышей животных в чуждой для них среде, исключающей возможность обучения от себе подобных (или же просто «самообучения»), получили у этологов названия «метода каспар-хаузеров». Дело в том, что в двадцатых годах XIX века широкую известность получила история немецкого юноши, появившегося в Нюрнберге неизвестно откуда и спустя шесть лет убитого при загадочных обстоятельствах. Этот молодой человек едва умел говорить и с большим трудом выводил на листе бумаги свое имя. Звали его Каспар Хаузер. В результате длительного судебного расследования удалось выяснить, что он провел все свое детство и юность в лесной землянке, куда какой-то неизвестный приносил ему скудную пищу и воду. Этот же человек научил Хаузера написанию двух слов, смысл которых едва ли доходил до сознания узника. Способность с трудом нацарапать свои имя и фамилию была одним из весьма немногих навыков, которыми владел несчастный Каспар.
Вот хороший пример тех результатов, к которым приводит изоляция ребенка от культурной среды, формирующей человеческую личность в обычных условиях. Вполне очевидно, что психологи по этическим соображениям не могут использовать «метод каспар-хаузеров» для выявления врожденных компонентов о поведении человека. Ученые вынуждены идти здесь иными путями, наблюдая за поведением новорожденного, еще не успевшего ничему научиться, или же изучая возможности тех детей, которые в силу врожденных дефектов их органов чувств не способны накапливать жизненный опыт с той скоростью, с какой это делают здоровые дети.
Изучая поведение детей, родившихся слепоглухими, немецкий этолог И. Айбл- Айбесфельдт установил, что врожденными являются у человека внешние проявления многих эмоций. Таково, в частности, поведение детей в состоянии крайнего неудовольствия или гнева. Тот факт, что и немецкие, и китайские дети в этих ситуациях ведут себя совершенно однотипно, позволяет не придавать значения возможным влияниям национальной культуры. Разгневанный ребенок стискивает зубы или закусывает ими нижнюю губу, зажмуривает глаза, слегка откидывает голову назад и топчется на месте с крепко сжатыми кулаками. Всем слепоглухим детям свойственна также типичная мимика недоумения.
Давайте понаблюдаем теперь за человеком, входящим в кафе или в полупустой вагон метро. Я утверждаю, что, по крайней мере, в одном отношении действия незнакомца будут высокопредсказуемы и, в общем, «стереотипны». Вошедший почти неизменно сядет или за свободный столик (если такие есть), или на некотором удалении от пассажиров, уже сидящих в вагоне. Во всех случаях, когда это возможно, мы стараемся держаться на некотором удалении от себе подобных. Такое стремление к минимальной самоизоляции хорошо известно этологам, изучавшим самых различных животных — от личинок беспозвоночных, с их весьма примитивными органами чувств, до человекообразных обезьян. Минимальное расстояние, на котором две особи данного вида еще проявляют терпимость друг к другу, не вступая в конфликт и не обнаруживая стремления увеличить разделяющее их пространство, в этологии принято называть «индивидуальной дистанцией».
Хотя величина индивидуальной дистанции колеблется в известных пределах в зависимости от многих условий, в целом она может служить характерным признаком того или иного вида. Так, у птиц, постоянно живущих тесными сообществами (например, у воробьев и голубей), индивидуальная дистанция в среднем меньше, чем в зимней стайке синиц, каждая пара которых весной и летом всеми силами охраняет от соседей свою обширную гнездовую территорию.
Что же представляет собой индивидуальная дистанция у человека? Является ли наше внутреннее отвращение к тесноте и сутолоке чрезмерно многолюдных помещений чисто биологическим «инстинктом», сохранившимся еще с тех времен, когда наши обезьяноподобные предки жили небольшими племенами и не могли испытывать тягость навязанного извне недостатка в жизненном пространстве? Несомненно, что перенаселение больших городов оказывает отрицательное влияние на физиологию человека, являясь одним из компонентов так называемого «социального стресса». При таком самом широком подходе можно, по-видимому, считать стремление каждого человека избежать чересчур тесного соседства с незнакомыми ему людьми проявлением общего для всех нас «инстинкта самоизоляции».
Однако уже здесь трудно отрицать несомненное влияние культуры на наше поведение. Если мы стараемся всеми силами избежать давки в магазине или в электричке, то почему же охотно миримся с тем же, посещая места массовых зрелищ, переполненные концерты и стадионы? Ответ на этот вопрос прост — потому что люди получают от этого удовольствие. Если бы дело обстояло иначе, не было бы ни театров, ни спортивных зрелищ, ни многолюдных ярмарок. Пристрастие человека к сборищам не менее (если не более) естественно и универсально, чем желание коллекционировать всякие безделушки.
Следуя логике В. Р. Дольника, мы смело могли бы говорить о некоем «инстинкте развлечений», пронесенном мириадами людских поколений через миллионы лет нашей эволюции. Мне ближе другая позиция, согласно которой и тяга человека к скоплениям незнакомых ему людей, и его страсть к коллекционированию — это всего лишь разные, усиленные и развитые культурой способы разнообразить свою жизненную среду. Но об этом мы еще поговорим несколько позже.
Возвращаясь к вопросу об индивидуальной дистанции у человека, хочется привести любопытный пример того, сколь явно ее величина у разных народов связана с общими различиями в их культурных традициях. Американский ученый Э. Холл, автор интересной работы под названием «Язык пространства», пишет, что во время пребывания на Ближнем Востоке он постоянно чувствовал себя словно в давке, и это вызывало у него неясное ощущение тревоги. По словам того же исследователя, жизнерадостные и общительные мексиканцы часто обижаются на холодность янки, для которых привычное расстояние до собеседника составляет около трех четвертей метра. Для мексиканца это слишком далеко, но когда он подходит ближе и уже готов заговорить, янки отступает в сторону.
Инстинктивна ли тяга человека к огню?
Когда известный уже нам Каспар Хаузер впервые увидел зажженную свечку, он сунул в огонь палец и сильно обжегся. Так пишет Якоб Вассерман, автор романа «Каспар Хаузер, или Леность сердца». Возможно, что описываемый им случай со свечой — всего лишь беллетристическая вольность. Но я склонен верить, что Каспар должен был вести себя именно так и что человек, никогда ранее не видевший огня, не будет зачарованно любоваться пляской его языков. Возможно, что зрелище огня и прикует к себе внимание нашего воображаемого испытуемого, но этот интерес будет сродни любопытству пещерного человека, увидевшего спички или магнитофон.
Мы любим глядеть на огонь потому, что он ярок, красочен, подвижен. Все эти свойства воспринимаются нашим зрением, а, оценка зрительных восприятий определяется индивидуальной привычкой и непроизвольно усвоенными стандартами «прописных истин». Слепой ребенок, греясь у камина, может на слово поверить своим близким, что огонь красив и притягателен для глаза. Но, не обладая собственным зрительным опытом, он едва ли сразу узнает огонь, если врачи заставят его прозреть.
В. Р. Дольник пишет, что тяга к огню у человека — это единственный инстинкт, которого не знают звери. Я думаю, что звери именно потому и не знают тяги к огню, что это не инстинкт, а культурное приобретение человечества. Укрощение огня — сравнительно позднее завоевание наших предков. Если изготовление каменных орудий было вполне обычным делом для австралопитеков, живших около 3,5 миллиона лет назад, то секрет использования огня стал доступен только на следующей стадии человеческой эволюции, в эру архантропов (к которым относятся питекантроп и синантроп). Это произошло, вероятно, около 750—500 тысяч лет до нашего времени.

Хотя мы не знаем, как именно наши предки впервые похитили огонь у природы, археологи единодушны в мнении, что этот шаг был результатом разумного решения, а отнюдь не «инстинкта». Сознательным усилием первым людям удалось смирить тот «инстинктивный» страх перед неизвестным, который таит в себе зрелище огня для многих животных.
Коль скоро способность использовать огонь была плодом гениального прозрения выдающегося первобытного Прометея, а отнюдь не результатом некоего пресловутого «инстинкта», то и дальнейшая передача этого навыка по череде поколений могла идти только через эстафету культурных традиций, меняя генетическое русло. Это значит, что каждое поколение наших предков заново осваивало секреты сохранения (а позже — и добывания) огня, следуя опыту и примеру старейших членов племени. Таким образом, огонь и пришел через тысячелетия в топку современного паровоза и в газовую плиту нашей благоустроенной квартиры.
Почему мы становимся коллекционерами
Немного найдется вещей, более страшных для человека, чем скука. Наши предки сознавали это ничуть не хуже нас с вами. Именно поэтому наказание остракизмом и изгнанием из племени, а позже — заточением, было, вероятно, одной из самых древних кар за преступления против общества.
Но откуда приходит скука? По существу это результат скудости или отсутствия новых впечатлений извне. Сегодня психологам хорошо известно, что стремление развивающейся человеческой личности к новым впечатлениям подобно аппетиту, который «приходит во время еды»: чем разнообразнее приток внешней информации в детстве, тем более велики требования к смене впечатлений в зрелом возрасте.
Важность всего сказанного мы осознаем достаточно полно, если скажем, что разнообразие впечатлений, в полном смысле слова, формирует развивающийся мозг — подобно тому, как белки, жиры и углеводы, которые мы поглощаем с пищей, формируют клетки и органы нашего тела. Ученые доказали это в простых опытах с крысами. Возьмем выводок крысят и разделим его на две группы, поместив одну из них в богатую воздействиями, а другую — в бедную среду. Спустя всего лишь восемь дней мы сможем убедиться в том, что у крысят первой группы кора головного мозга будет обладать большей толщиной и большим весом, чем у их ровесников, содержавшихся во время опыта в обедненной впечатлениями среде. Большая величина коры свидетельствует о более интенсивном росте нервных клеток и об увеличении богатства связей между ними.
Не менее существенны и различия в содержании некоторых ферментов в коре мозга у крысят двух подопытных групп, что служит несомненным доказательством большей активности психических процессов у животных, содержавшихся в обогащенной среде. По словам американского нейрофизиолога X. Дельгадо, «…развивающийся мозг как бы поглощает внешнюю среду, используя ее… для построения нейронов».
Теперь становится понятным, почему всем нам свойственна постоянная — порой осознанная, а чаще непроизвольная — тяга к смене и разнообразию внешних впечатлений. Сознание человека, лишенное своей пищи, отказывается работать, и мы погружаемся в отчаяние скуки. Чтобы избежать этого, люди изобретают себе занятия, которые можно постоянно разнообразить и которые способны заполнить наш досуг, позволяя избежать страшащей человека праздности. Одним из способов противостоять вынужденному безделью, этому главному источнику скуки, и является занятие коллекционерством.

Но что такое истинный коллекционер? Можно ли рассматривать в качестве такового лишь человека, фанатично собирающего марки, открытки или этикетки винных бутылок? Думаю, что нет. По существу все мы в той или иной степени являемся коллекционерами. Есть люди, коллекционирующие свои жизненные впечатления. Этот тип коллекционера дает миру писателей и художников, обогащающих своим творчеством жизненную среду человечества и поставляющих материал для тех, кто коллекционирует книги или произведения живописи. Ребенок, увлеченный разнообразием форм и красок органического мира, начинает собирать засушенные листья, жуков или бабочек. Порой пристрастия коллекционера необъяснимы для окружающих. В романе К. Гамсуна «Мистерии» главный герой уверяет собеседников в своей страсти к коллекционированию коровьих колокольчиков (оправданием этого персонажа служит лишь то, что в действительности он, вероятно, не занимался этим).
Стремление всеми возможными способами разнообразить свою среду и приток внешних впечатлений свойственно не только человеку, но и другим высшим животным. Крыса, не испытывающая недостатка ни в пище, ни в питье, будет, тем не менее, регулярно преодолевать запутанные коридоры лабиринта только лишь для того, чтобы заглянуть в тот его участок, где экспериментатор регулярно меняет карточки с разнообразными рисунками. Обезьяна, запертая в клетку, готова нажимать на рычаги и выполнять любые сложные задания зоопсихолога, если ей позволяют в виде награды выглянуть наружу через специальное окошечко. В этом смысле биологическая основа коллекционерства у человека как способа избежать однообразия и скуки, является в какой-то степени общей для него и для прочих существ с высокоразвитой психикой.
Поверх этого, единого для всех нас биологического фундамента могут накладываться самые различные социальные мотивы, которые и определяют все многообразие проявлений страсти к коллекционированию у человека разумного.
Все эти стимулы, движущие поисками коллекционера, — охотничий азарт, тщеславие, жажда приобретательства, любознательность — великолепно доказывают отсутствие видимой связи между собирательством у наших далеких предков и деятельностью заядлого грибника или филателиста. Человек прошлого собирал, чтобы выжить. Наш современник уже не стоит перед этой проблемой. Материальное благосостояние рождает досуг. Если есть свободное время, можно подумать и о развлечениях. А форму развлечений диктуют культурные нормы, разнообразие которых определяется взглядами, обычаями и традициями общества.
«Я часть всего того, что видел…»
Эти слова, принадлежащие главному герою поэмы А. Теннисона «Улисс» как нельзя лучше рисуют связь между своеобразием человеческой личности и неповторимыми путями ее формирования. Если в основе нашего поведения лежат некие врожденные программы, более или менее единообразные для каждого человеческого существа, то почему же мы столь отличаемся друг от друга? Наверное, потому, что роль этих программ, неоценимая в период самого раннего детства, становится совершенно ничтожной в поведении зрелого человека. Личность формируется культурной средой, и вне ее «инстинкты» не способны создать из полноценного человеческого детеныша что-либо похожее на человека.
«Человек разумный не появляется на свет, ничего не зная о нем,— пишет В. Р. Дольник,— Он рождается с программой, как вести себя в этом мире. С огромным набором напутствий, выстраданных и проверенных в несметном числе поколений его предков, в калейдоскопе ситуаций». Но что означает умение правильно вести себя в этом мире? Только одно — приспособить все свое поведение к тем культурным традициям, которые существуют в человеческом обществе. А это дается как раз обучением — в самом широком смысле этого слова, а отнюдь не инстинктом. По словам одного психолога, люди, лишенные влияния культуры, вовсе не похожи на одаренных обезьян, не нашедших своего места в жизни.
Именно так выглядел мальчик, которого итальянские этологи, работавшие Африке, обнаружили в стаде газелей. Ребенок, очевидно, вырос среди этих животных и, если так можно выразиться, сам «считал себя» газелью. Подобно антилопам он питался травой, которую поедал, стоя на четвереньках и откусывая стебли резцами. Правда, когда газели пускались вскачь, мальчик поднимался на ноги и следовал за стадом бегом. Он умел взбираться на деревья — с тем, чтобы достать для себя съедобные плоды. Пожалуй, этим и исчерпывался запас полезных «инстинктов» ребенка, которые, однако, еще ни в какой мере не делали его «человеком» в нашем обычном понимании.
Инстинкты оказываются бессильными, если культурное влияние на растущее человеческое существо сведено к минимуму… Предоставленные самим себе дети не станут ни земледельцами, ни охотниками, ни коллекционерами. Им будут чужды такие чувства, как любовь к родине и интерес к природе. Все эти качества могут развиваться только у полноценной личности, впитавшей в себя в пору своего интеллектуального созревания все богатство накопленных человечеством знаний, навыков, традиции и заблуждений.
Разумеется, я далек от того, чтобы отрицать роль наследственных факторов в становлении человеческого поведения. Это было бы равноценно отрицанию того, что гены обусловливают рост человека, его физическую конституцию, цвет глаз и волос. Сейчас ни у кого не вызывает сомнения генетическая обусловленность нашего темперамента, а также таких патологических отклонений от нормального поведения, как шизофрения и эпилепсия. Строение нашего тела и нормальное развитие физиологических процессов уже сами по себе предопределяют «правильность» выполнения многих важнейших стереотипов поведения, таких, например, как способность ходить или бегать, как возникающая в период полового созревания естественная тяга к обществу лиц другого пола.
Но я не могу согласиться с тем, что к числу врожденных программ человеческого поведения относятся так называемые «инстинкты крова», «инстинкты жадности», «инстинкты скитания», о которых известный американский зоопсихолог Э. Торндайк говорил еще в конце позапрошлого века. Так же как и тяга к огню, к коллекционерству, к охоте, к земле — все эти особенности нашего мировосприятия формируются у человека под явным или неявным влиянием той культурной среды, которая является основной питательной почвой для развития полноценной человеческой личности.
Автор: Е. Панов, кандидат биологических наук.


В философии и культуре Нового времени акцентируются такие понятия, как индивидуальность и самосознание человека. Декарт заложил основу новоевропейского рационализма, постулируя мышление как единственное достоверное свидетельство человеческого существования : «Я мыслю, следовательно, я существую» ( лат. Cogito Ergo Sum ). Разум становится определяющей характеристикой человека, рассматриваемого теперь как производное от природных и социальных обстоятельств.