Рационален ли человек?
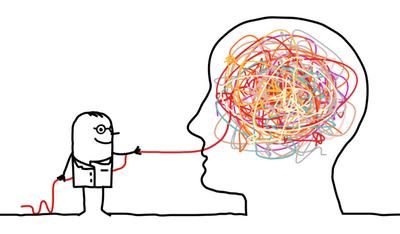
Уже Сократ понимал: «познать самого себя» — задача нетривиальная, как теперь говорят. Поэтому мы можем позволить себе не решать ее, жить, не очень себя понимая. Но вот от чего нам не уйти — это от разъяснения своих и чужих поступков. С детства и до глубокой старости мы спрашиваем и объясняем, «зачем ты (я, он) это сделал», «почему не сделал» и «как ты мог».
Что кроется за этим всеобщим «дознанием»? Любопытство, желание заглянуть в душу? Не только и не столько. Старушкам, которые обсуждают поведение («перемывают кости») соседки, не так уж интересны ее душевные движения. Они выполняют повседневную работу социального общения — совместно вырабатывают объяснение людских поступков. Такое убедительное для всех действующих лиц толкование есть основа и необходимое условие общения. Оно создает у собеседников то ощущение взаимопонимания и понимания других людей, без которого невозможна ориентация в социальной жизни. И пусть нас не вводят в заблуждение анекдотические формы этой социально-психологической работы.
Объяснение чужих поступков может быть смешным — когда круг мотивов, понятных его «авторам», совершенно не совпадает с мотивами тех, кого «объясняют». Оно может быть неприглядным — если плохие мотивы «авторам» понятнее, чем хорошие. Другие люди могут объяснить эти же поступки иначе, достовернее, но обязательно убедительно, понятно не только для себя, но и для других. Так создается, непрерывно проверяется и уточняется обыденная «концепция» человеческих мотивов и поступков: ею мы руководствуемся в общении, да без этой «концепции» оно и невозможно.
Невозможно жить в необъяснимом мире, среди странных, непостижимых людей. И чтобы сделать их понятными, совсем не обязательно всегда и до конца знать действительные побуждения и цели людей, нырять в «темные глубины» или взбираться к «светлым вершинам» их душ. Это невозможно, было бы, наверное, подлинной трагедией (представьте себе общество «прозрачных» людей) и, к счастью, не нужно. Обычно достаточно найти приемлемое для всех участников объяснение какого-то поступка, и взаимопонимание восстанавливается, а социальный мир приобретает упорядоченность.
Социальное взаимодействие — это повседневное творчество каждого из нас, создающее крошечные открытия и «теории» собственного и чужого поведения. Люди проявляют чудеса гибкости и изобретательности, мгновенно перестраивая свое толкование ситуации в разговоре, лишь бы не оказаться в положении непонимающего. Американские социологи предложили группе студентов принять участие в сеансе психотерапии. Их предупредили, что проверяется новый метод, поэтому на их вопросы врач будет отвечать с помощью связи и только «да» и «нет». Студенты не знали, что ответы были совершенно случайными (выбор «да» и «нет» определялся по таблице случайных чисел), а «психотерапевт» не мог слышать ни вопросов, ни последующих комментариев. Удивительно: многие участники заявили, что их ожидания «полностью оправдались» и сами они теперь «намного яснее мыслят».
Сталкиваясь, например, с «да» и «нет» на один и тот же, повторенный вопрос, они заключали, что в ходе беседы психотерапевт глубже понял их самих и их проблемы. И только некоторые отказались от продолжения эксперимента, заподозрив, что их дурачат.
Однако мы не справились бы, наверное, с непрерывной работой по сохранению понятности нашего общего мира, если бы не помощь культуры, которая содержит в себе не только стандарты, образцы поведения, но и стандартные толкования этого поведения. Она снабжает нас практически неисчерпаемым набором готовых объяснений, на любой вкус и любую ситуацию, которую мы сами, основываясь только на своем индивидуальном опыте, затрудняемся истолковать.
В «проблемных» обстоятельствах, где нам трудно найти понятное и себе и другим объяснение поступков, мы прибегаем к готовым, стереотипным. Социологи называют их «квази-теориями», причисляя к ним, например, обыденную «концепцию» времени, которое само по себе может ставить и решать проблемы («это уж такой возраст», «все мы прошли через это», «время излечивает все раны», «пусть все идет своим чередом, все образуется», «в конце концов все станет на свои места» и т. д.) или обыденную веру в особую силу бессознательных импульсов, комплексов и т. д., с помощью которой легко объясняется странное, шокирующее поведение.
Ограниченность готовых объяснений, их неточность и поверхностность коренятся не в их содержании, а в способе употребления. Сами по себе такие стереотипные толкования не истинны и не ложны, в одних условиях они действительно попадают в точку, в других — совершенно вздорны. Ведь мы используем их как универсальные не потому, что они всегда верны, а потому, что они почти всегда понятны. Но как будто в насмешку они образуют ряд несовместимых утверждений («ученье — свет, неученье — тьма», но «век живи, век учись — дураком помрешь»; «учиться никогда не поздно», но «в тридцать лет ума нет — и не будет» и т. д.) и не содержат в себе никакой подсказки, где их нужно применять. Это решает сам «объясняющий», всегда рискуя оказаться пошляком или тем дураком, который кричал похоронной процессии: «таскать вам не перетаскать». Поэтому хорошая доза иронии тут никогда не помешает, особенно по отношению к сверхуниверсальным объяснениям.
Жизненный опыт рано или поздно (обычно — когда «жареный петух клюнет») вынуждает человека понять, как ненадежны и даже коварны обыденные (общепринятые) стереотипы объяснения жизни. Тогда мы начинаем искать универсальные объяснения более высокого уровня, к которым приложили руку наука и искусство.
Как искусство помогает человеку объяснить поведение людей — это самая сложная часть нашей темы, оставим ее другим. Но есть здесь странности, которые бросаются в глаза и многое ставят под сомнение.
Уж, кажется, откуда еще обыденному сознанию брать стереотипы, как не из произведений искусства, которые, как известно, создают типы, типичные характеры, такие выразительные и запоминающиеся. Оно и берет, но как? Мы можем сказать «это Плюшкин какой-то», но не скажем «это какой-то Гамлет». Почему среди нас есть Отелло и Маниловы, но нет Чацких и Карамазовых? Если об отце, отдавшем детям квартиру и сбережения и отправленном ими же в дом престарелых, я скажу: «как Лир», меня, может быть, и поймут, но гораздо понятнее будет совершенно пустая ссылка на «этих современных детей».
В чем дело? В плохом знании литературы, в недоступности и плохом понимании классики, высокого искусства? Или в извечной сдвинутости обыденного сознания в оборонительную, «защитную», не доверяющую другому человеку, сторону? А может быть, в том, что искусство создает живые образы, а не универсальные схемы толкований и в этом смысле вообще не объясняет человеческое поведение, а вершит нечто другое?
Личность… есть наблюдаемая функция, показывающая, как индивид или система преобразует параметры ситуации выбора в ожидаемую удельную ценность.
Объяснения человеческого поведения, пришедшие из науки, используются в наше время очень широко, их предпочитают. Только в шутку мы можем сказать: «бес попутал», и не каждому предложишь ссылку на «ауру» или «прану». Но как уверенно мы говорим «знаю я его мотивы» или «такие у меня потребности», а уж без словечка «комплексы» многие из нас просто беспомощны объяснить поступки другого. И печальным анекдотом звучит ссылка на абсцинентный синдром у тех, кто еще недавно довольствовался просьбой о капустном рассоле.
Какое же представление о человеке идет к нам из сферы науки, дух которой присутствует сегодня в самых разных и глубоких слоях нашего существования?
Если говорить о самой науке, о том постоянном и напряженном не просто поиске, но и борьбе за истину, которые составляют ее сущность, то лучше, видимо, и не пытаться подогнать ее результаты к какой бы то ни было схеме. Среди наук о человеке не только медицина периодически объясняет, что «все наоборот». Модели человека, которые наука применяет (от аналогии с крысой до супер-компьютера),— только этап, средство исследования. Они не имеют самостоятельного существования, живут ровно до тех пор, пока что-то объясняют. Иное дело — вненаучная судьба этих моделей. Обыденное сознание, которое ищет устойчивых и понятных каждому представлений о человеке, играет здесь решающую роль. Одни из моделей человека вообще не получают судьбы вне науки, другие, наоборот, обретают долгую и самостоятельную жизнь. Иногда столь самостоятельную, что возвращаются в науку уже как «очевидные», «исходные» представления (замыкается тот круг взаимодействия «наука — обыденная жизнь», в котором искать начало — неблагодарная задача).
К числу таких моделей, бесспорно, принадлежит представление о рациональности поведения человека.
Конечно, рациональность можно понимать по-разному. Но в данном случае важны не детали, а некоторый обобщенный образ, который живет в нашем сознании. Мы можем не знать, что в науке он связывается с «целе-рациональным» поведением, можем считать, что такое представление о человеке неточно, но мы им пользуемся. Пользуемся, когда утверждаем, что формула «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше» бесспорна, а вопросы: «какая у него цель?» и «на что он рассчитывает?» кардинальны для понимания человека. Когда ставим под сомнение бескорыстие другого и даже свое собственное. Когда пытаемся «не поддаваться эмоциям» и «относиться к жизни трезво», рассчитывая жизненные проигрыши и выигрыши. В общем, часто пользуемся.
В основе целе-рациональной модели человека лежат некоторые предположения, иногда формулируемые исследователями, а иногда просто подразумеваемые.
Разумность человеческого существа понимается как его способность и чрезвычайная склонность ставить перед собой конкретные и осуществимые жизненные цели, а затем все свое поведение подчинять тому, чтобы их достичь. Значит, поведение человека так или иначе всегда осознанно — неважно, из каких бессознательных импульсов возникла эта цель, разумна ли она в данной жизненной ситуации. Важно, что она существует в его сознании как цель и тем самым диктует ему поступки.
Цели выстраиваются в некоторую сложную, но согласованную, непротиворечивую систему, «дерево целей», которое практически заполняет все жизненное пространство. В этом «дереве» цели различаются, прежде всего, по своей важности для человека. Он, как правило, может определить, какая из двух целей предпочтительнее: без этого невозможно принимать решения, делать выбор, строить поведение рационально, то есть логично, последовательно.
Между целями и средствами — строгое разграничение. Цели — это цели, средства — это средства. Последние всегда подчиняются первым. Человек оценивает средства инструментально, только по их эффективности для достижения цели, не думая, о том, хороши ли они сами по себе. Поэтому выбор средств, в сущности, определяется не столько самим человеком, его принципами и вкусами, сколько обстоятельствами, возможностями.
Еще один важный принцип относится к результату поведения. Результат всегда, естественно, отличается от цели, поставленной в начале, и человек знает о неизбежности этого. Но, в конечном счете любой результат должен быть так или иначе связан с каким-то внешним или внутренним «вознаграждением», которое и есть стимул деятельности.
Итак, жизнь человека представляется непрерывным принятием решений, то есть рациональной постановки целей, выбора самых эффективных средств и расчета последствий, оценки возможных вознаграждений. Конечно, мы чрезвычайно упростили исходные посылки представления о человеке, как существе сугубо рациональном, сознательно не учли множество уточнений, ограничений, нюансов. Однако это описание отражает его логику.
Эта логика, которая может выглядеть излишне простой, хорошо воспроизводит, тем не менее, логику таких важных сфер, как управление и экономика. Поэтому, кстати, целе-рациональная модель в социологии и получила название «экономического человека». Поведение, построенное на такой логике, можно наблюдать непосредственно, измерить, формализовать, а вследствие этого и прогнозировать. Кроме того, таким типом поведения легче всего управлять, потому что основные его элементы — цели, средства и вознаграждения — в руках управления. Оно дает нам цели, оно располагает средствами, оно вознаграждает.
Эта модель очень удобна не только для исследователя, но и для нас своей универсальностью: с теми или иными натяжками мы можем объяснить с ее помощью любое поведение.
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята.
В. Высоцкий
И тем не менее каждое из утверждений, на которых построен целе-рациональный образ человека, мы можем опровергнуть. На каждое его «да» существует свое «нет»; Хотя пафос и логика этих возражений очень различны.
Одни из них достаточно очевидны, подсказаны нашим здравым смыслом, собственным социальным опытом. Человек достаточно разумен, чтобы не делать каждодневную жизнь предметом интеллектуально-волевых усилий — «постановки целей», «выбора средств», «оптимизации» и «принятия решения». Он бережет эти усилия и ориентируется просто на некоторый стереотип поведения, на социальную норму, следование которой гарантирует пусть не самый эффективный (это и не требуется), но приемлемый способ поведения. Здесь действует та самая конформность, которая столь же допустима и уместна в делах не очень важных, сколь недопустима и неприятна в делах принципиальных. Мы имеем право спросить, а человек обязан пусть не ответить, но знать, почему он так выбирает друзей или работу. Но не надо приставать к нему с бессмысленными вопросами — почему он носит такие очки, зачем так обставляет квартиру или надевает такое платье. Он не знает, он не решает, он следует норме.
Что значит вести себя стереотипно в социальном смысле слова? Это значит действовать многократно проверенным способом, надежным для нас и понятным для других. Человек поступает экономно, когда не пытается самостоятельно, заново решать те задачи, готовые решения которых уже закреплены в социальном стереотипе.
Представьте себе, что исчезло такое, совсем не самое важное, социальное нормирование нашего поведения, как мода. Мы просыпаемся однажды — нет ничего «модного» и «немодного», мы сами вынуждены решать, что носить. Как усложнится жизнь! Каждый из нас вынужден будет задуматься: а что же мне идет? А если у меня нет вкуса, а если я уже не хочу тратить на это время или не очень люблю оценивать свою внешность? А масса чисто технических вопросов: длинное или короткое, широкое или узкое, контрастное или пастельное, строчка или вышивка?! Действительно ли удобна дубленка в метро, а джинсы в морозы? И как же «встречать по одежке», если престижность ее неизвестна? Оценивать вкус человека? Но для этого нужно его иметь и, кроме того, о вкусах не спорят. И вообще, зачем нужны пуговицы на рукавах пиджака?
Вот почему человек изобрел моду и следует ей, хотя сплошь и рядом это нерационально. Опыт может подсказать примеры и более глубокой нерациональности, поступков, не соотнесенных с последствиями, с каким бы то ни было вознаграждением, продиктованных, например, эмоциями или долгом. Конечно, если определять вознаграждение не с помощью тавтологии: вознаграждение — это то, ради чего совершается действие, стремятся к цели. Нерасчетливое, не заботящееся о результате и цели поведение может показаться нам исключительным. Мы охотно замечаем, как люди обеляют свои поступки и мотивы, и не обращаем внимание на противоположное — как они «наговаривают» на себя. Человек, сделавший доброе дело «просто так», начинает выдумывать, приписывать себе утилитарные намерения, чтобы не выглядеть странным, чтобы представить свое поведение рациональным, понятным. «А вдруг этот человек мне понадобится»,— говорит он. Но это «вдруг» — не из области расчета. Оптимизирующий свою выгоду по-настоящему эту неопределенность легко снимает, деля людей на «нужных» и «ненужных».
Столкнувшись с бескорыстными поступками, сторонники рациональной модели обычно объясняют их стремлением к некоторому скрытому, «внутреннему» вознаграждению, к таким целям, как чистая совесть или внутренняя гармония. Но уместно ли здесь говорить о целях, раз нельзя определить ни средства, ни меру, ни момент их достижения? Кто-то справедливо заметил, что нельзя быть «почти святым», как нельзя быть «более или менее смертным». Нельзя сказать, что цель «быть честным» достигнута, потому что каждый честный поступок — это не средство для ее достижения, он не приближает нас к ней ни на шаг. Более того, существуют цели, которые достигаются только тогда, когда не ставятся, сама постановка которых делает их недостижимыми.
Поставив себе цель быть умнее других, человек дает тем самым бесспорное доказательство своей глупости; гоняясь за уважением окружающих, дает им право относиться к нему с пренебрежением; пожелав доказать свое нравственное превосходство, свидетельствует о своей нравственной неразвитости.
Спор с рационализированным образом человека идет давно, он отнюдь не сводится к подобным обыденно-умеренным, трезвым возражениям. В самых разных культурах с предельным напряжением звучит струна непримиримого «нет» арифметике расчета, алгебре необходимости и математическому анализу гарантированного, навязанного счастья. «Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди зазнамо, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках… А что если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного?.. С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья?
Человеку надо — одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела…— Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!» Мы можем отнести крайности этой позиции на счет «загадочной», иррациональной души, но вот что говорит представитель самой утилитарно-рациональной нации: «Я столь же уверен в том, что дышу, сколь и в том, что сознание вреда или ошибочности данного действия часто оказывается единственной непобедимой силой, которая — и ничто иное — вынуждает нас это действие совершить. И эта ошеломляющая тенденция поступать себе во вред ради вреда не поддается анализу или отысканию в ней скрытых элементов». Сказавший это Эдгар По предлагает «признать изначальным и врожденным двигателем человеческих действий парадоксальное нечто, которое за неимением более точного термина можно назвать противоречивостью или упрямством».
Немецкий философ XIX века выражает эту мысль по-своему: «Воля… постоянно знает, чего она теперь, чего она здесь желает; но никогда не знает, чего она вообще желает».
Пусть не обманет нас эмоциональная форма этой позиции. Это не просто эмоция или чистый протест, не несущий в себе никакой функции, кроме самого протеста. Отрицание рациональности как верховного критерия наших поступков несет глубокий человеческий смысл.
Каждый человек может оказаться в жизненной ситуации, где рациональное поведение обрекает на беспомощность или поражение. Никакой рациональный расчет, оценка вариантов и разумное решение не могут подсказать, как действовать в ситуации подлинной неопределенности, когда отсутствует основная информация, или в ситуации предельной ответственности, где ошибка должна быть исключена.
А что делать в ситуации, где, с рациональной точки зрения, нет выхода? Рациональной модели в этом случае сказать нечего, она может только удивляться, зачем безнадежных больных лечат или зачем безответно любят. Многовековая мудрость предлагает здесь вместо целей и планов — надежду, говорит: «надейся, и тогда может случиться невозможное». Что это — презрение к разуму, болезненное неверие в него? Нет, это недоверие к информации. И весьма здравое, с тех пор, как Прометей «у смертных отнял дар предвиденья» (за что, прежде всего, и был наказан богами, по мнению Эсхила). Еще вчера мы считали, что надежда есть только до тех пор, пока бьется сердце, сегодня знаем, что и после есть 3—5 минут, а как на самом деле? И если прав Торнтон Уайлдер, сказавший, что «там, где есть непознаваемое, есть надежда», то надежда есть всегда.
Целенаправленный, рациональный тип поведения, если бы он стал единственным, сделал бы наше существование предельно эффективным, но отрывочным, дискретным, потерявшим непрерывность. Многие элементы и даже периоды жизни были бы лишены смысла, потому что превратились в средство, в нечто, не имеющее самостоятельного значения. Если цель, например защита диссертации, поставлена всерьез, то отношение к знанию, творчеству, интеллектуальному общению неизбежно становится инструментальным. Человеку уже очень сложно испытывать «чистое удовольствие» от них, поскольку он должен думать о «пользе». Эффективному, то есть ориентированному только на результат, работнику трудно получать удовлетворение от самого выполнения своей работы. Он не может позволить себе «ковыряться», то есть делать дело без спешки, вникая в детали, думая над тем, что делает и как это можно сделать по-другому, доводить работу до совершенства. Его устремленность к результату постепенно лишает смысла процесс.
За «нерациональным», забывающим о результате отношением к жизни может скрываться стремление к наиболее полному, «непрерывному» переживанию своего существования. Сохраняя способность «застревать» на процессе достижения цели, постоянно присматриваться к средствам, интересоваться второстепенным и даже бесполезным, мы сохраняем возможность все время проверять цену целей, трезво оценивать и, если нужно, переоценивать их значимость и смысл.
Организуя все свое поведение по принципу рационального «принятия решения», человек рискует выстроить поле своей жизни в одну линию, лишить ее альтернативности. «Принять решение» — значит, закрыть многие альтернативы в пользу одной из них. Чем больше принято решений, тем больше закрыто альтернатив, и каждое новое «последовательное» решение (то есть подтверждающее предыдущее) делает возврат к отвергнутым альтернативам все менее возможным. Поэтому отказ, уход от принятия решения может быть оправданным.
Те, кто не принимают рационализированный образ человека, еще и защищают чрезвычайно важный тезис о бесконечности, безграничности его внутреннего мира. Хоть мы верим, что эта безграничность безгранична,— ведь сколько бы мы ни продвигались в глубь человека и его возможностей, остаток, не пройденный нами путь будет больше того, что мы узнали,— однако некоторая осторожность и ответственность здесь необходимы. Верно то, что если мы идем по сложным и глубинным путям понимания человека, то мы никогда не дойдем до «конца». Но верно и то, что когда мы начинаем упрощать его, то конец оказывается рядом.
Здесь человек оказывается и крысой в лабиринте, и павианом в стаде, и «экономическим человеком». Изобретатели таких моделей предупреждают, как правило, что все гораздо сложнее, и что они вовсе не претендуют на отражение всей сложности человека. Однако не следует особенно доверять этим оговоркам. Способность исследователя забывать о том, что он «упростил», поистине удивительна, а модель, получив научную жизнь (особенно, если это удачная модель), сбрасывает с себя все оговорки и использует их только для защиты от противников. В паутине определений, ограничений, предположений, которые делаются «на минутку», чтобы остаться насовсем, спор жизненной интуиции человека с логическими схемами обречен на поражение. Если нехитрая схема «работает», что-то как-то объясняет или даже предсказывает, как доказать, что она не учитывает нечто, может быть, самое главное.
Поэтому и возникает стремление создать другое поле рассуждений, надежно оградив его от упрощающей рациональности. Проявляется оно по-разному. Великий писатель может позволить себе сказать просто и ясно: «Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать… а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет». Рядовой гуманитарий будет туманно ссылаться на действие социальных норм, борьбу Я и Оно, на когнитивный диссонанс или потребность в самореализации. Дурак-эпигон станет творить заклинания против рационализма, сциентизма и позитивизма.
Но так или иначе, фактом остается то, что с образом человека, который противопоставляется рационализированному, трудно работать научными методами. Он не просто не рассчитан на такую работу, он активно сопротивляется ей. Как только предпринимается попытка однозначно, научно определить или измерить любое из его понятий, кто-нибудь позаботится так истолковать это понятие, что оно опять становится неверифицируемым и неизмеримым. Или объявит, что эти измерения просто не относятся к делу. Можно напомнить историю категории «тревога» (Angst), которая пришла в западную психологию из экзистенциализма и вызвала к жизни целую батарею тестов для измерения тревожности (anxiety). Ни один уважающий себя философ не признает, что «тревога» Кьеркегора — это то же самое, что измеряется ответами на вопросы: часто ли у вас болит желудок и хорошо ли вы себя чувствуете в незнакомой компании? Две эти тревоги живут каждая сама по себе. Похоже на то, что непригодность к собственно научному исследованию есть не следствие некоторых особенностей нерационального видения человека, но одна из его задач.
Антирационалистическая позиция несет на себе печальную печать отрицания. Уже давно она формируется как реакция на рационалистическую, живет и имеет смысл лишь как противовес ей и, значит, только вместе с ненавистным антиподом. Можно рассматривать эту ситуацию как неизбежную и естественную: Богу — Богово, кесарю — кесарево, нужно только определить, кто здесь Бог, а кто — кесарь. Но ответить на этот вопрос невозможно, невозможно разделить «сферы влияния» этих моделей.
Постоянно воссоздаются два образа человека, противоположных, несовместимых по видимости, но неразрывно связанных в своих истоках. Оба они имеют основания для существования. Объясняя поведение людей, мы пользуемся обоими, не смущаясь собственной непоследовательностью, потому что не можем ограничиться ни одним из них.
Автор: Н. Наумова, кандидат философских наук.

