Физики против математиков
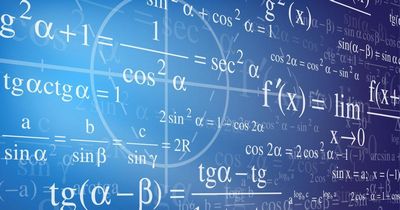
Всем знакомо составное прилагательное «физико-математический». Для человека стороннего обе науки сливаются в единое нечто. Такое представление, однако, чрезвычайно устарело, можно добавить: к сожалению. Между физикой и математикой, точнее, между тем, чем занимаются физики, и тем, чем занимаются математики, пролегла глубокая пропасть, не менее серьезная, чем пресловутая пропасть между «физикой» и «лирикой».
Эта пропасть возникла не по злому умыслу или недосмотру, а в силу причин, столь же глубоких, как и она сама. Физика и математика — науки различные по своей природе. Задача физики — изучать закономерности реального мира. Математика — дисциплина лингвистическая. Это ее свойство предельно ясно выразил Гиббс, один из первых физиков-теоретиков. При обсуждении вопроса о том, чему следует уделять наибольшее внимание при обучении студентов — математике или языкам, Гиббс, прервав свое извечное молчание, сказал просто и коротко: «Математика — это язык».
Математика, конечно, язык иного рода, чем латынь или английский: это естественный язык, язык, на котором говорит природа, или, во всяком случае, язык, на котором физики записывают голос природы. Поэтому конфликт между математикой и физикой мог бы рассматриваться как конфликт между формой и содержанием языка, между его структурой и семантикой. Предельным выражением подобного конфликта была бы опустошенность на одном полюсе и немота — на другом.
Простые правила образования и сочетания слов в принципе уже содержат в себе все языковое богатство. Так и элементарные математические действия — сложение, умножение и дифференцирование — это залог и зародыш всего богатства математики. Математика, лишенная одного из элементарных действий, — все равно что, скажем, язык, не знающий времен глаголов.
Конечно, сходство математики с житейскими языками прослеживается лишь до определенной точки. Математике, например, свойственна точность и однозначность высказываний; это свойство она сохраняет, даже описывая беспорядок и игру, случайностей. Но, как и всякая великая литература, математика, выстраивая слова (свои слова) в ряд, получает нечто неизмеримо большее, чем слова. Искусственная конструкция оживает, в конце тоннеля выкладок брезжит дневной свет, и разгадкой ребуса оказывается жизнь.
Поэзия и формулы
Стихотворение великого поэта значит много больше, чем следует из смысла использованных слов и связей между ними. Этой «дополнительной информации» не выразить в битах. Откуда она берется? За стихотворением стоит весь опыт языка, приспособленного для выражения человеческих чувств. И еще за ним стоит опыт поэта, погруженного в жизнь и воспринимающего ее. «Количество информации», способное вторгнуться через эти каналы, практически неограниченно.
Я нарочно пользуюсь при описании поэзии «научным» (с оттенком псевдонауки) жаргоном — поэтические выражения стоит приберечь для математики. Что же математика? Подобием поэтическому открытию служит открытие, сделанное математическими средствами. Когда Максвелл в результате математических преобразований пришел к выводу о существовании электромагнитных волн, способных распространяться со скоростью света, и когда выяснилось, что эти волны, открытие «на кончике пера», действительно существуют, — это и было примером прыжка выше своей головы, «знаком качества» великой литературы. Гений Максвелла был бы бесполезен, если бы не существовало языка, приспособленного для выражения законов природы, если бы математика не была естественным языком.
Возможность «открытий на кончике пера» всегда поражала людей, причем больше всего тех, кто эти открытия совершал. Когда Дирак говорил об этом чуде на публичной лекции, он весь светился, называя математику прекрасной. В свое время Дирак разглядел в бессмысленном с виду, «лишнем» корне своих уравнений новую частицу — позитрон. Глядя на Дирака, можно было понять, какое это невозможное счастье — родить, подобно Зевсу, частицу мира из своей головы. Ничто не будоражит воображение сильней таких открытий, и память о них бережно хранится поколениями, как чтится и оберегается поэзия родного языка.
Формулы и поэзия
Не следует думать, что «незримая рука», помогающая физику-теоретику, — это лишь овеществленный труд созидателей исчисления, заготовивших необходимые языковые формы. Почерк той же руки прослеживается и внутри самой математики.
«Поэзия» — это смелое и подчас противоречащее здравому смыслу расширение возможностей математического языка. Типичный путь «поэтического открытия» в математике — это «незаконное» распространение известных математических операций на новые объекты. Результат подобного открытия поначалу кажется бессмысленным, теоретически неприемлемым и, в лучшем случае, лишь практически полезным. Обоснование приходит потом. Именно так обстояло дело с комплексными числами (а еще раньше — с отрицательными и иррациональными).
Что такое квадратный корень из минус единицы? Казалось бы, такого числа нет. Было два способа справиться с этой ситуацией. Первый — сказать, что операция извлечения корня законна только применительно к положительным числам. Второй — ввести новый сорт чисел; таких, чтобы это математическое действие имело смысл всегда. Последнее дает математическому языку свободу выражения, и потому именно оно оказывается единственно плодотворным. Хотя числа нового типа были стыдливо названы «мнимыми», этот термин давно уже не воспринимается в буквальном смысле слова: заслуги «мнимых» чисел в познании законов природы столь велики, что их невозможно считать числами «второго сорта» по сравнению с обычными, «действительными». И физики, и математики повсюду пользуются единым понятием «комплексного числа». Лучше всех сказал о рождении мнимых чисел Хлебников, математик по образованию:
И корень взяв из нет себя.
Увидел зорко в нем русалку.
Универсальность математического языка, его способность к самостоятельному бытию не могли не принести своей награды. Когда появились теория относительности и квантовая механика, то оказалось, что математический аппарат для них уже заготовлен впрок. Математики не перестают напоминать об этом физикам, и тут действительно есть чем похвастаться. Но здесь нам уже пора вернуться к начатому разговору о пропасти.
Перемена мест слагаемых
XX век изменил как физику, так и математику. Физика проникла в глубинные слои структуры материи, где отказывает «здравый смысл». Там физика столкнулась с понятиями, не имеющими наглядной интерпретации и необъяснимыми ни на каком языке, кроме математического. В этих условиях математический язык не мог не превратиться из вспомогательного в главное орудие познания природы. Теория стала все чаще опережать опыт, уже не объясняя, а предсказывая явления. Возникла новая массовая профессия — физик-теоретик.
Математика тоже пережила на стыке веков свой кризис, хоть и не такой «громкий», как «кризис физики» начала XX века. Парадоксы теории множеств заставили математиков особо пристально посмотреть на основания своего языка. Были оставлены всякие попытки положиться на «интуитивно» воспринимаемые образы. Резко подскочил вверх стандарт строгости математического доказательства (постепенно повышавшийся уже в течение XIX века). Математики все ясней осознавали лингвистический характер своей науки, ее независимость от физики.
Физики же, напротив, все сильней чувствовали неразрывную связь между явлениями реального мира и отображающим их математическим языком. Знаменитый пифагорейский принцип «числа правят миром» возродился. Толчок к этому дали те самые «открытия на кончике пера», вершины «математической поэзии», о которых уже шла речь выше. Но пифагорейский принцип обратим. Если он верен, то столь же верно и то, что природа правит числами. В физической теории подсказка природы «языку» и подсказка естественного языка опыту непрерывно взаимодействуют.
Владеть математическим языком стало непременным условием успешной работы физика. Стоит вспомнить, что еще век назад физики знали математику примерно так же плохо, как нынешние химики (а теперь и химики берутся за математику все серьезней). Когда Шредингер впервые сформулировал свое знаменитое уравнение — основное уравнение квантовой механики, он не мог сам его решить и обратился за помощью к математику Вейлю. В те же времена двадцатилетний Гейзенберг, формулируя законы квантовой механики другим способом, по пути «изобрел» матричное исчисление. Это было бы повторением подвига Ньютона, создавшего дифференциальное исчисление, если бы только матричное исчисление не было давно известно. В наше время таких очаровательных казусов уже не бывает. Средний физик-теоретик, каких тысячи и тысячи, оснащен теперь математическим аппаратом до зубов, что, разумеется, не означает, что он является таким же совершенным «рецептором» тайн природы, как юные создатели квантовой механики.
Но, как ни хороши были заготовленные математиками языковые средства, новой физике их хватило ненадолго. Новые, все более сложные задачи требовали и новых методов решения. Между тем надежды на помощь со стороны математиков постепенно таяли. Физики были поставлены перед необходимостью самим разрабатывать новые средства выражения. И они смело ринулись вперед, смущая математиков своими «безобразиями».
Физикам, несомненно, легче, чем математикам: за их спиной стоит высшая инстанция —опыт, который, страхуя теоретика, всегда может предотвратить печальные последствия неосторожных математических курбетов. Эта подстраховка дает физикам большую свободу действий, чем математикам, скованным жестким стандартом строгости доказательств. В этом смысле позиция физиков-теоретиков близка к позиции математиков прошлого, тоже явно или неявно полагавшихся на чувственно воспринимаемые образы. (Но, между прочим, стандарт строгости постепенно повышается и в теоретической физике, как повышался он в математике XIX века.)
Физики «безобразничают»
Возьмите прямоугольник и сжимайте его основание, одновременно вытягивая его в высоту так, чтобы площадь прямоугольника оставалась неизменной. В пределе, когда основание сожмется в точку, вы получите график дельта-функция Дирака. Эта функция равна нулю всюду, кроме одной-единственной точки, в этой же точке равна бесконечности. С точки зрения классического математического анализа дельта-функция — просто бессмысленный урод, не подчиняющийся ни одной из теорем. Дирак пользовался услугами этого «урода», не дожидаясь появления строгой теории обобщенных функций.
Самые головокружительные трюки начались с легкой руки Фейнмана. (Широкой публике известны «Фейнмановские лекция по физике», украшенные портретом автора, играющего на барабане, а также злые шутки, которые он учинял над стражами секретности во время работы над созданием атомной бомбы.) Математики издавна разлагали функции в ряды. Но что вы скажете о таком ряде, все члены которого бесконечны (одни положительны, а другие отрицательны), сумма же — конечная величина? Именно с такими рядами осмелились работать физики. И как работать: из бесконечного числа бесконечностей они должны выбрать «главную» часть (нередко содержащую тоже бесконечное число членов) и отсуммировать ее, чтобы получить искомое приближенное решение (заметим, что в по-настоящему трудной физической задаче ответ всегда приближенный). Это ли не акробатика?
Добавим еще, что члены ряда обычно изображаются не формулами (это было бы слишком громоздко), а картинками — фейнмановскими диаграммами. И такие методы распространились с редкостной быстротой во все области физики. Почему они применяются? Да потому, что они плодотворны. И тут уже неважно, как они выглядят с точки зрения пуристов.
Математики справедливо называют подобные построения физиков «шаткими мостками». Но для физиков «шаткие мостки» — альтернатива не железобетонной конструкции, а отсутствию всякого моста. И что-то «шаткие мостки» не спешат обваливаться. Можно подумать, что «незримая рука» поддерживает их в ожидании, когда под них подведут, наконец, прочный фундамент. Кстати, стоит вспомнить, что и дифференциальное исчисление было лишено такого фундамента чуть ли не два века.
Разницу в психологии физиков и математиков иллюстрирует следующий жизненный анекдот. К физику после сделанного им доклада (связанного как раз с тем диаграммным методом, о котором шла речь выше) подошел математик. «А вы знаете. — сказал он. — эта задача уже решена». «Как решена?» — испугался физик: нет ничего хуже, чем обнаружить, что ты работал впустую, чего-то недоглядев в огромном потоке литературы, — и такие случаи становятся тем чаще, чем шире разливается этот поток. «Доказано существование решения». «Милый, — вздохнул физик с облегчением, — да если бы мы не верили в то, что решение существует, разве стали бы мы со всем этим возиться?»
А что же математики?
Они прекрасно понимают, что такой великий язык, как математика, заслуживает того, чтобы его законы изучались ради них самих, а не ради какой-то «посторонней» цели — даже столь огромной, как познание природы.
Математика — не служанка физики, так же, как физика — не служанка техники. У каждой из этих областей есть своя высшая цель («сверхзадача»), и было бы глупо спорить, какая из этих трех наук важней. Мы называем математику «естественным языком». Но математика потенциально богаче природы, как возможность богаче действительности.
Никто не может сказать наперед, что скрывается среди холодных вершин, куда забрались нынешние математики. Не там ли лежит путь прорыва через неприступные хребты, перегородившие путь современной науке? Известно, как ограничены, несмотря на все ухищрения физиков, возможности существующего математического языка. Каждый шаг в решении сложных физических задач дается все большим трудом. Использование компьютеров не решает всех проблем. Нужно что-то существенно новое, переворот столь же глубокий, каким было некогда создание дифференциального исчисления. Фактически нужен новый язык. Но никто не представляет себе, возможен ли «естественный язык», в корне отличный от современного, и, если возможен, то каковы могут быть его принципы и на каких путях имеет смысл эти принципы разыскивать.
Работа математиков нечеловечески трудна. В отличие от реального мира, где все имеет свою меру и предел, мир чистых образов лишен объективных мер; в частности, он не знает меры и в требованиях к самому себе. А ведь математик — это обычный человек с обычными человеческими легкими, не приспособленными к жизни в безвоздушном пространстве. Маститые математики постоянно напоминают, как полезно людям, работающим в этих почти космических условиях, особенно неокрепшей молодежи, время от времени подпитывать свои силы кислородом прикладных задач. Иначе обессиленные скалолазы могут поддаться искушению создать себе искусственную атмосферу, уйдя в круг интересующих только их самих проблем.
Увы, чем более дерзка поставленная цель, тем трудней человеку удерживаться на достойной этой цели высоте. По-видимому, среднему математику предоставляется меньше шансов внести ощутимый вклад в науку, чем среднему физику.
К сожалению, подчас приходится наблюдать, как вредно сказываются на математике, занявшемся прикладной задачей, некоторые укоренившиеся у него привычки. Бывает, что математик (весьма средний, разумеется), обратив свой взор к некой модной теме (обычно из области биологии или социологии, ибо в физике или химии слишком велика конкуренция «туземцев»), пытается чего-то добиться с помощью определений, переопределений и безупречных логических выводов там, где на самом деле могут помочь лишь приближенные методы, основанные на выделении главных черт исследуемого явления и отбрасывании второстепенных. Результатом такой вылазки может быть лишь словесный поток, перекатывающий, как устрашающие камни, разные непроизносимые термины, в основном кибернетические.
Привычки, воспитанные в среднем физике-теоретике, служат ему во время вылазок в соседние области науки куда лучше. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что путь из одной естественной науки в другую (ведь биология — это часть физики в широком, аристотелевском смысле слова) куда короче, чем путь математика с его вершин.
Что дальше?
Видный физико-химик Ингольд в предисловии к своей фундаментальной монографии благодарит своих близких, убедивших его в том, что несовершенная, но существующая книга лучше совершенной, но несуществующей. Это нешуточная дилемма. Высокий математический авторитет, «генерал» Бурбаки, пишет, что греки (в особенности Архимед) очень близко подошли к созданию дифференциального исчисления, но решающий шаг, возможно, не был сделан потому, что греки были не в силах обосновать исчисление бесконечно малых сообразно с тогдашним стандартом математической красоты и строгости. Таким образом, это великое дело было отложено почти на два тысячелетия. Может быть, задержка была бы еще большей, не опустись к XVII веку стандарт строгости обоснований. Не дорога ли эта цена?
Вершины математики прекрасны, и приходится только сожалеть, как мало людей может ими любоваться. Тот, кто способен почувствовать эту красоту, может сказать, что никакая цена за нее не была бы чрезмерной. Но современная математика, наверно, вообще бы не родилась на свет, если бы она одновременно не была естественным языком, находящимся в неразрывной связи со структурой реального мира. В наши дни математики и физики-теоретики говорят на разных языках или, во всяком случае, на разных диалектах, подчас не понимая друг друга. Между этими диалектами идет определенная конкуренция. Не дают ли математики слишком большую фору физикам, сковывая свои действия жестким стандартом строгости? Или, напротив, только такой образ действий оправдывает себя на глубинах познания? Каким суждено быть естественному языку будущего? Ставки очень высоки. Язык, лишенный связи с реальностью, язык, покинутый поэтами, обречен на смерть. Так умерла звучная и емкая латынь. С этой опасностью невозможно не считаться.
Автор: Л. Письмен.

